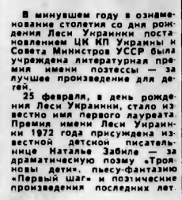Э. Араб-Оглы. В утопическом антимире (начало статьи) // Литературная газета. – 1972. — 23 февраля (№ 8). — С. 15. — (Зарубежная литература).
Э. Араб-Оглы. В утопическом антимире (окончание статьи) // Литературная газета. – 1972. — 1 марта (№ 9). — С. 15. — (Зарубежная литература).
---
Буржуазная эстетика: тупики и лабиринты.
---
В 1516 году появилась прославленная книга Томаса Мора «Утопия». На протяжении столетий передовая мысль в форме утопии выражала свои социальные идеалы, мечтала о лучшем будущем, справедливом и разумном устройстве общества.
Социализм превратил утопию в науку, осуществил вековые чаяния утопистов прошлого.
В нашу эпоху реакционные идеологи отрекаются от светлых утопических идеалов. Они пророчат гибель современной цивилизации, рисуют страшные апокалипсические картины будущего планеты. Современная буржуазная общественная мысль, литература и искусство проникнуты настроениями антиутопизма.
Критике антиутопических тенденций в западной культуре посвящена публикуемая сегодня статья.
— - -
В стремительном потоке экономических потрясений, политических катаклизмов и необратимых социальных преобразований нашего революционного века, в ходе которых на обновленной карте мира появилось почти сто новых государств, немногие обратили внимание на злополучную судьбу, выпавшую на долю такой старинной, цветущей и просвещенной страны, как Утопия. Впрочем, разве мало царств и империй, игравших на протяжении долгих столетий видную роль в истории, было стерто с лица земли в XX веке? Так стоит ли сокрушаться о легендарной воображаемой Утопии! Увы, в отличие от Австро-Венгрии, Российской и Оттоманской империй, Третьего рейха, Британской и других колониальных держав, участь которых отнюдь не собираются оплакивать их бывшие подданные, трагическая судьба Утопии заслуживает глубокого и искреннего сожаления всего прогрессивного человечества.
ВОПЛОЩЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ИДЕАЛА.
Открытый более четырех веков назад Томасом Мором, легендарный остров Утопия в течение столетий был для передовой общественной мысли символом социальной справедливости, примером для вдохновения и подражания. Существовавший лишь в воображении, он оказал поистине неизгладимое влияние на все последующее развитие общества, несравненно большее, чем многие реальные государства. Сокровища, вывезенные из Америки Кортесом и Писсаро, в исторической перспективе выглядят жалким приобретением в сравнении с заимствованными из Утопии принципами всеобщего образования детей и равноправия женщин, с демократическими конституциями и Академией наук, с идеалами разумного общественного устройства, социального планирования и справедливости. Робеспьер вдохновлялся утопическими идеями Руссо: после завоевания независимости Соединенные Штаты Америки положили в основу своей конституции образ правления в «Океании» Гаррингтона; а сны Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?» пробудили целое поколение революционеров в России.
Утопия как воплощение социальных идеалов отнюдь не противоречит практическому складу мышления. Начиная с Платона, великие утописты прошлого вместе с тем были выдающимися мыслителями своего времени, как это подтверждает пример Руссо, Сен-Симона и Конта, а многие также — Мор и Бэкон, Генрих IV и У. Пенн, Джефферсон и Чернышевский — выдающимися государственными и общественными деятелями.
Как известно, основоположники марксизма очень многим были обязаны утопической традиции в предшествовавшей общественной мысли. Они высоко ценили вклад великих утопистов, которые, по словам Энгельса, «гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно».
В глазах крупнейших деятелей культуры утопия олицетворяла гуманистические традиции и убеждение в осуществимости социальных идеалов, веру в лучшее будущее. Оскар Уайльд восклицал, что «не стоит и смотреть на карту, раз на ней не обозначена Утопия, ибо это та страна, на берега которой всегда высаживается человечество». Анатоль Франс писал, что «без утопистов прошлых времен люди все еще жили бы в пещерах, голые и несчастные...
Утопия — принцип всякого прогресса, а также попытка проникнуть в лучшее будущее».
Но вот уже несколько десятилетий, как этот «лучший из миров» подвергается на Западе поношению.
СТРАХ ПЕРЕД БУДУЩИМ.
На протяжении XIX века отношение к утопии со стороны идеологов и политических деятелей буржуазии на Западе, уверенной в незыблемости своего господства и настроенной прагматически, было скорее пренебрежительным и ироническим, чем враждебным и серьезным. Утопия снисходительно третировалась ими как пусть привлекательный, но наивный и недостижимый социальный идеал, не имеющий практического значения.
Положение, однако, коренным образом изменилось после первой мировой войны и социалистической революции в России.
Общий кризис капиталистической системы сопровождался духовным смятением значительной части либеральной буржуазии, средних слоев населения и интеллигенции. Многие представители последней, еще недавно мысленно упивавшиеся картинами «гибели старого мира» и «рождения нового человека», в благочестивом ужасе отшатнулись от «призрака» социальной революции, который неожиданно для них обрел плоть и кровь. Именно этим «товарищам интеллигентам» Валерий Брюсов бросил в 1919 году упрек в измене собственным идеалам:
над жалкой грудой
Народы видят надпись:
«Бренность»!
И в новых ликах живой
причудой
Пред нами реет
современность.
То, что мелькало во сне
далеком.
Воплощено в дыму
и в гуле...
Что ж вы носитесь
неверным оком
В лесу искусанной косули?
Что ж не спешите вы
в вихрь событий —
Упиться бурей,
грозно-странной?
И что ж в былое с тоской
глядите,
Как в некий край
обетованный?
Социальная действительность современной эпохи предстала перед либеральной интеллигенцией в извращенном, перевернутом виде. Вместо того чтобы сделать логически и исторически напрашивающийся вывод, что коль скоро марксизм получает практическое подтверждение, то, следовательно, он является не утопией, а научно обоснованным социальным предвидением, многие пришли к парадоксальному убеждению, будто отныне пробил час великого исторического произвола, когда чуть ли не любые утопии могут быть навязаны человечеству и воплощены в жизнь. Красноречивее всего эту волюнтаристическую идею изложил русский философ-идеалист Николай Бердяев, эмигрировавший во Францию:
«...Утопии могут быть реализованы. Жизнь идет к утопии. И возможно, что начинается новый век, в который интеллигенция и образованные классы будут мечтать о методах, как избежать утопии, о возвращении к обществу не утопическому, менее совершенному, но более свободному».
Иррациональный страх перед утопией преследовал Бердяева всю жизнь. Уже после второй мировой войны в книге «Царство Духа и царство Цезаря», законченной им за два месяца до смерти и ставшей его духовным завещанием, он писал, что коммунизм представляет собой «реализованную утопию». Однако, уверял он, идеальный общественный строй достижим лишь и царство Духа, но не на земле. И царстве же Цезаря утопии воплощаются в жизнь ценой их деформации и подавления свободы личности. Вынужденный признать, что «мир вступает в социалистическую эпоху», Бердяев, оставаясь верным себе, изображал это как неизбежную трагедию для человеческого рода.
Подобный панический страх перед утопией и сознание обреченности в борьбе с ней стали лейтмотивом буржуазной социальной философии вплоть до наших дней. Лаконичное изречение Бердяева, позаимствованное Олдосом Хаксли в качестве эпиграфа к антиутопии «Отважный новый мир», затем с его легкой руки стало символом веры антиутопической традиции в целом.
Одно лишь перечисление вышедших за последнее время работ, посвященных утопии и утопическому сознанию, красноречиво свидетельствует о той метаморфозе, которую претерпел этот литературный жанр на Западе: Ф. Л. Баумер — «Апокалиптика XX столетия», К. Эмис — «Новая карта ада», Ч. Льюис — «Последняя ночь мира», Ч. Уолш — «От утопии к кошмару», М. Р. Хиллегас — «Будущее как кошмар».
ИЗ ОБЕТОВАННОЙ ЗЕМЛИ НА НЕОБИТАЕМУЮ.
Подобные умонастроения, быть может, так и остались бы всего лишь модным поветрием, своего рода интеллектуальным снобизмом, если бы идеологи реакции не усмотрели в антиутопии весьма эффективное оружие в борьбе против распространения социалистических идей.
Антиутопия получила политическое благословение господствующих классов и на долгие годы стала ведущей темой антикоммунистической пропаганды. Будучи не в состоянии противопоставить коммунизму иную привлекательную альтернативу общественного прогресса, идеологи реакционных сил использовали антиутопию для того, чтобы намеренно извратить социальные идеалы своего противника, запугать обывателя мрачным будущим и заставить его примириться с существующим строем как якобы «меньшим из зол».
Антиутопия неумолимо вытесняла утопию в литературе, посвященной будущему человечества и цивилизации. Проанализировав многочисленные сочинения в этом жанре, Ч. Уолш сокрушенно констатировал: «Читатель, следящий за выходящими утопическими сочинениями, обнаружит, что они поверхностны и неубедительны. Но если он пожелает первоклассно описанных кошмаров, то сможет выбирать среди большего разнообразия ужасов, чем встретил Данте, совершая паломничество сквозь девять кругов ада». К такому же выводу приходит и Марк Хиллегас:
«Поистине трагично, что одним из наиболее отличительных признаков тревоги, в которой пребывает наш век, является великий поток книг, вроде «Мы» Замятина, «Отважный новый мир» Хаксли и «1984» Оруэлла. Внушающие страх своим подобием, они описывают кошмарные государства, где люди воспитаны в беспрекословном повиновении, свобода уничтожена, а личность попрана; где воспоминания о прошлом систематически искореняются, а люди отгораживается от природы, где наука и технология используются не для обогащения жизни человека, а для надзора и контроля над гражданами-рабами со стороны государства. Хотя подобные сочинение иногда обозначаются такими понятиями, как дистопия или канотопия, чаще всего их называют антиутопиями, ибо они выглядят, как последнее печальное прощание с вековой мечтой человека о гармоничном, идеальном. совершенном обществе, которая выглядела столь благородной в «Республике» Платона, в «Утопии» Мора, «Христианололисе» Андреа и во «Взгляде назад» Беллами».
Антиутопия как литературный жанр представляет собою, однако, всего лишь возвышающуюся над поверхностью вершину гигантского антиутопического айсберга в общественном сознании и мировосприятии значительных слоев населения на Западе. В художественной литературе она тесно связана с нигилистическими тенденциями, дающими знать о себе в появлении так называемого «антиромана», «антибиографии», с творчеством таких «властителей дум» послевоенного поколения интеллигенции на Западе, как А. Кестлер. А. Камю, Ф. Кафка и многие другие. В изобразительном искусстве антиутопические тенденции проявляются у Сальвадора Дали, Джорджо де Кирико; в драматургии представлены «театром абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско.
Для антиутопической тенденции в культуре характерно глубокое разочарование в гуманистических идеалах прошлого, перерастающее в болезненное отречение от них, в безысходный социальный пессимизм. Будущее в подобных произведениях воспринимается не как «обетованная земля», а как мир, становящийся необитаемым вследствие термоядерного побоища, восстания роботов, нашествия пришельцев из космоса, а также прочих стихийных напастей.
Отречение от социальных идеалов и примирение с повседневной действительностью сопровождаются психологическим состоянием обреченности, неуверенности в личном будущем. Как отмечает голландский футуролог Ф. Полак:
«В последние десятилетия наша интеллигенция поддалась искушению фаталистического мировоззрения экзистенциалистов, уверяющих нас в том, что предстоящее нам будущее безнадежно и совершенно не поддается каким-либо улучшениям, что никогда, никогда не наступит мир, менее зловредный и вероломный, менее подлый и развращенный, менее жестокий, несправедливый и безнравственный, чем наш проклятый мир, в котором мы обречены жить... Короче говоря, люди оказались ввергнутыми в настоящее, их единственное прибежище, и в погоне за мимолетными наслаждениями стали вести себя в соответствии с лозунгом: «После нас — потоп!».
Стоит ли удивляться тому, что многие представители господствующего класса и связавшей с ним судьбу интеллектуальной элиты трагически воспринимают предстоящий уход с исторической сцены как приближение Страшного суда над человечеством? «После нас — светопреставление!», «После нас — потоп!», «После нас — утопия!» — в этих апокалипсических настроениях на рубеже исторических эпох в искаженной, фантастической форме преломляется наступление новой фазы общественного прогресса. Но конец света оказывается всего лишь концом старого порядка, началом нового расцвета цивилизации.
«НИСХОЖДЕНИЕ В КАКОТОПИЮ».
Быть может, наиболее поучительным примером такого крутого перелома в отношении к утопии со стороны значительной части либеральной интеллигенции на Западе служит духовная эволюция Льюиса Мэмфорда, одного из самых видных социальных философов Америки нашего столетия.
В 1922 году, в начале своей научной карьеры, он написал интересную и содержательную «Историю утопий», представлявшую собой настоящий панегирик великим утопистам прошлого и принесшую ему широкую известность. С нескрываемым увлечением он утверждал, что без утопии общество похоже на дом, оставленный обитателями. «Наша самая важная задача, — провозглашал Мэмфорд, — это строить воздушные замки. И не надо бояться, что наши усилия пропадут даром». У нас, убеждал он, нет иного выбора: либо обратиться к утопии, либо согласиться с удручающими пророчествами Шпенглера в «Закате Европы». Правда, уже тогда, как много лет спустя отмечал Ф. Манюэль, в своем восторженном отношении к утопии Мэмфорд был похож на одного из последних могикан: «для большинства же она выглядела трупом уже в 1920—1930 годах».
Однако либеральные иллюзии и реформистские надежды Мэмфорда не выдержали суровых испытаний эпохи: великой депрессии 30-х годов, прихода к власти фашизма в Германии, второй мировой войны и т. д., которым он не смог дать правильной исторической интерпретации. И его первоначальный призыв к общественным преобразованиям на утопических началах постепенно вырождался в скромные проекты реконструкции и благоустройства американских городов.
Так началось, перефразируя выражение самого Мэмфорда, его долгое и мучительное «нисхождение в Какотопию» (от греческого «какос», то есть плохой).
О глубокой метаморфозе, которую претерпели взгляды Мэмфорда, можно судить по новому предисловию к «Истории утопий», написанному им сорок лет спустя. Сводя счеты с либеральными увлечениями молодости, он заявлял: «Замысел «Истории утопий» сложился у меня вскоре после первой мировой войны, когда я все еще жил в обнадеживающей атмосфере предшествовавшей эпохи». Теперь же, после второй мировой войны, эти надежды на лучшее будущее явно испарились. В книге он сравнивал великих утопистов с Прометеем, похитившим для людей огонь с небес: в предисловии же он сравнивает утопии с прокрустовым ложем для унификации людей и безжалостного подавления индивидуальности.
Возвращаясь к этой проблеме через три года на международном симпозиуме по утопии, организованном Американской академией искусств и наук, Мэмфорд сделал еще один шаг в своем «нисхождении в Какотопию». По его мнению, утопическое сознание на протяжении истории было обращено не в будущее, а в далекое прошлое и скрывало в себе тоску по идеализируемой восточной деспотии в Древнем Египте и Месопотамии. Исходя из своей произвольной исторической аналогии, он готов приписать эту идеализацию и Платону, считая его античным предтечей фашизма, и Томасу Мору, и французским просветителям, прославлявшим деспотический Китай и абсолютистскую Россию. Человечество должно избавиться от преследующего его призрака утопии, заключал Мэмфорд.
НОВЫЙ СУД НАД ГАЛИЛЕЕМ.
И, наконец, в 1970 году Мэмфорд на склоне лет завершает монументальную двухтомную монографию «Миф о машине», своего рода итог жизни и творческих поисков. Пожалуй, со времен Шпенглера на Западе не появлялось книги, проникнутой столь мрачным пафосом и воинствующим осуждением общественного прогресса, науки и утопических идеалов.
Человечество, предостерегает Мэмфорд, стоит на пороге обновленной технократической деспотии, которую он называет Мегамашиной. В нашу эпоху наука превратилась в новую религию, а ученые — в ее священнодействующих жрецов. Проникновение в космос он считает бесполезным расточением ресурсов и сравнивает, по символическому значению, со строительством пирамид в Древнем Египте. После тысячелетних поисков социальной справедливости и духовной свободы человечеству, согласно Мэмфорду, вновь угрожает опасность оказаться во власти тоталитарной, на этот раз механизированной, утопии, где автоматизированная жизнь и манипуляция сознанием заменят кнут и колодки. «Короче говоря, выходит, что утопия — это не столько отдаленная идеальная цель, сколько неизбежное логическое завершение нашего текущего развития», причем из прекрасной мечты она ныне «превратилась в какотопию, или реализуемый кошмар».
Если Хаксли считал, что великое заблуждение цивилизации началось в XVIII веке, и связывал его с упадком аристократии, то Мэмфорд относит грехопадение человечества уже к XVI веку, когда люди были введены в искушение наукой и техникой. Лозунг Ф. Бэкона «знание — сила» он называет «интеллектуальным империализмом», жертвой которого пали гуманистические идеалы и социальные ценности всей предшествовавшей эпохи. Олицетворением зла, которое принесла в наш мир наука, для Мэмфорда является Галилей. «Фактически Галилей совершил преступление, несравненно более тяжкое, чем все те, в которых его обвинили сановники церкви». В обвинительном заключении, составленном Мэмфордом и вынесенном им на суд истории, великому ученому вменяется в вину то, что он, дескать, во имя «мертвой природы, количества и объективности» попрал «человечность, качество и субъективность». И вот теперь в результате «преступления» Галилея «миллионы людей живут под угрозой тотальной катастрофы: более того, воздух, которым они дышат, вода, которую они пьют, пища, которую они едят, отравлены вследствие злоупотребления научными знаниями».
Что касается утопии, то ее объективное назначение и исторический смысл, по Мэмфорду, сводятся к тому, чтобы погребальную процессию цивилизации изобразить как триумфальное шествие. В своем исступленном преклонении перед наукой, рационализацией и машинами мы, уверяет он, близки к самосожжению.
«Человек не может устоять перед соблазном технологических возможностей. Если человек сможет полететь на Луну, он полетит. Если он сможет управлять климатом, то сделает это». Приводя этот афоризм знаменитого математика Дж. фон-Неймана, Мэмфорд мрачно умозаключает: «Если человек будет в состоянии истребить все живое на земле, он истребит». И ничто, кроме «стихийного религиозного возрождения», признаки которого он готов усмотреть в движении хиппи, не спасет человечество от жалкой участи, уготованной ему современной технологией и подслащенной утопиями.
Свою книгу он завершает призывом повернуть вспять, к социальным и духовным ценностям средневековья, которое в его изображении выглядит «золотым веком» в истории цивилизации. Подобные ретроградные рассуждения могут вызвать разве лишь чувство глубокого разочарования и искреннего сожаления к этому незаурядному мыслителю, убежденному гуманисту, которому мы обязаны многими творческими идеями в области градостроительства и урбанизации.
Оказавшийся в плену предрассудков, он явно не в состоянии понять, что социальное зло и несправедливости, войны и милитаризм порождены отнюдь не наукой и техникой, а злоупотреблением их достижениями господствующими классами антагонистического общества ради увековечения своей власти, могущества и привилегий.
Как бы ни идеализировал Мэмфорд средневековье, отказ от достижений науки и техники со времен Галилея означал бы прежде всего, что для 2,5 миллиарда людей, то есть для каждых двух из трех живущих сейчас на Земле (!), не оказалось бы ни рабочего места, ни средств существования, а остальные были бы обречены на недоедание и невежество, на периодические эпидемии и огромную детскую смертность, на мелочную регламентацию поведения, произвол со стороны властей и гнетущую сословную иерархию. Человечество и сейчас страдает не от избытка, а от недостатка технологии. Технофобия — это страусовая политика и идеология, препятствующая осознанию назревшей необходимости радикальных социальных преобразований этого общества.
Выступая с речью по случаю присуждения ему национальной премии, американский писатель Роберт Пен Уоррен в канун 1971 года говорил, что осознание глубокого социального кризиса широко распространилось в американском народе: «Было время, когда плохие новости, содержащиеся в «Закате Европы» Шпенглера, обсуждались узким кругом романтически настроенных выпускников Гейдельбергского университета, мыслителей из Гринвич Вилледж и разочарованных аспирантов»: теперь же благодаря массовой печати «удручающие пророчества» Мэмфорда сеют уныние вплоть до «домашних хозяек и банковских служащих, обеспокоенных за будущее своих детей». Какой глубокий и вместе с тем саркастический смысл приобретает в изложении Уоррена творческая судьба самого Мэмфорда, уверовавшего в конце своего жизненного пути в то, против чего он восставал в начале!
(Окончание следует)
---
ВО ВЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОШМАРА.
Французский социолог Жак Эллюль, профессор Бордоского университета, не оставляет нам, в сущности, даже этой призрачной надежды на религиозное обновление мира, которая призвана скрасить социальный пессимизм у Мэмфорда. В своей книге «Техника — ставка века» (изданной в США под заглавием «Технологическое общество») он заявляет, что человечество в XX веке оказалось во власти технологического детерминизма, безжалостно влекущего нас в мрачную и стерильную для тела и души технократическую утопию. В этом уготованном нам будущем, с отчаянием восклицает Эллюль, «для личности сохраняются лишь две возможности. Либо человек продолжает оставаться самим собой, но в этом случае он становится все более неприспособленным, невротиком, неэффективным, теряет возможность существования, и его, наконец, вышвыривают на мусорную свалку общества, как бы талантлив он ни был: либо он приспосабливается к новому общественному организму, который
становится его миром, и отныне уже не способен жить где-либо, помимо массового общества. (И тогда он едва ли отличается от пещерного человека!)».
Техника в нашу эпоху, утверждает Эллюль, превратилась из средства для осуществления человеческих идеалов в самоцель: техническая эффективность, целесообразность и рациональность неумолимо диктуют обществу направление его развития. Тот механизированный рай изобилия, который сулят человечеству ученые в своих прогнозах — это, по его словам, «в действительности самая жестокая тирания, по сравнению с которой диктатура Гитлера выглядит пустячной затеей. А то обстоятельство, что эту тиранию будут олицетворять контрольные электронные лампы, а не подкованный сапог, нисколько не смягчит ее».
Излагая концепцию Эллюля в книге «Технологический человек», американский футуролог Виктор Феркисс обращает внимание на то, что парадоксальная логика отчаяния заставляет даже противников технократической утопии выступать в качестве ее пророков: «Преувеличивая опасность ситуации, Эллюль сеет столь глубокое отчаяние, что сопротивление выглядит безнадежным, заставляя тем самым многих согласных с его точкой зрения примириться с мыслью, что нам остается лишь с достоинством ожидать конца, наслаждаясь своим знанием о его неизбежном наступлении, подобно герою греческой трагедия».
Глубоким отчаянием проникнуты заключительные страницы книги Эллюля. Технологическое развитие, как он убежден, в конечном счете ведет к самоотрицанию и к социальному абсурду. Ссылаясь на достижения биохимии, генетики и других наук, которые со временем позволят манипулировать сознанием и произвольно управлять эмоциями, он завершает книгу следующими словами:
«Итак, наш человек золотого века будет способен «испытывать счастье», даже подвергаясь худшим лишениям, но зачем в таком случае нам сулят необыкновенный комфорт, гигиену, знания и питание, если с помощью простого манипулирования нашей нервной системой мы можем сознавать себя счастливыми и без них? Итак, последний жалкий довод, который мы можем привести в оправдание технической авантюры человечества, явно повисает в воздухе благодаря развитию самой же техники».
В мире, разумеется, никогда не было недостатка в реакционерах и ретроградах. И если подобная технофобия и антирационализм вызывают определенное беспокойство, то главным образом потому, что в наши дни они исходят не из лагеря ультраконсервативной политической реакции, а от представителей либеральной интеллигенции, отражая ее идеологическое смятение. Такие антитехнологические взгляды разделяются на Западе также многими радикально настроенными теоретиками «новых левых», вроде Пола Гудмена и Джона Макдермота, Теодора Роззака и Ричарда Флэкса, превращая тем самым их критику существующего строя и политическую оппозицию в исторически бесплодный нигилизм.
ИРОНИЯ ИСТОРИИ.
Антиутопия, при всей ее заманчивости, была, однако, обоюдоострым оружием в той психологической войне, которую вели идеологи буржуазии за умы и совесть людей. Более того, она, как и следовало ожидать, оказалась несравненно опасней для самого либерализма, принявшего ее на вооружение, чем для коммунизма, против которого она была обращена в первую очередь.
Страх, как говорят, — плохой советчик во всех случаях жизни, тем более в идеологической борьбе, потому что он ослепляет, не позволяет разумно соразмерять продиктованные им действия с их непосредственными и отдаленными последствиями. И в самом деле, страх перед социальной революцией, которым в значительной мере был обусловлен расцвет антиутопического жанра на Западе, со временем перерос в страх перед прогрессом и будущим, перед наукой и техникой, наконец, перед человеческим интеллектом вообще. В конечном счете та временная победа над естественным стремлением людей к социальной справедливости, которую поспешили торжествовать поборники антиутопии, таила в себе пагубные социальные последствия.
И наиболее дальновидные представители либерализма и реформизма вскоре начали сознавать, что в исторической перспективе это была пиррова победи, сомнительная и непрочная, достигнутая ценой отречения от либеральных традиций и гуманистических идеалов, которые поначалу отстаивала антиутопия. Незадолго перед смертью видный лейбористский теоретик Джон Стрэчи, говоря о творчестве Хаксли, Оруэлла, Кестлера и других представителей социального пессимизма в литературе, с тревогой констатировал:
«В данном случае противодействие заложено гораздо глубже. Ибо литература, о которой идет речь, представляет собою не только и, в конце концов, даже по преимуществу не столько реакцию против социальных идеалов коммунизма в наши дни, сколько реакцию против пяти веков рационализма и эмпиризма, короче говоря, против просвещенности как таковой. Это одновременно и скандализирует, и объясняет силу ее воздействия».
Исторический скандал, вызванный, по выражению Стрэчи, антиутопией в XX веке, несмотря на свою очевидность, все-таки нуждается в комментариях. Свою силу антиутопия во многом черпает из гигантского резервуара неуверенности в будущем и политической недоверчивости, стихийного индивидуализма и взаимной враждебности, национальной неприязни и расовой исключительности, накопившихся в обыденном сознании людей за долгую историю антагонистического общества. Либерально-реформистская ставка на антиутопию в идеологической борьбе с коммунизмом — это игра в пользу прусского короля, где весь выигрыш падает на долю ретроградной, консервативной реакции.
Утопический антимир, завладевший сознанием значительной части интеллигенции и массы обывателей на Западе, в некоторых отношениях весьма напоминает антиматерию в концепциях современных физиков: он не выдерживает соприкосновения с действительностью, с реальным миром, где мы живем, и, сталкиваясь с ним, сопровождается своеобразной духовной аннигиляцией, уносящей с собою положительные социальные идеалы и ценности. Ирония истории заключается в том, что первой жертвой этой упорной бомбардировки общественного сознания антиутопическими идеями пали именно либерально-реформистские идеалы абстрактного гуманизма, вера в будущее цивилизации и уверенность в высоком предназначении человека на земле.
«ГОМО МАНЬЯКУС» ВМЕСТО «ГОМО САПИЕНС».
Антиутопия порождает специфическое восприятие мира, заставляет искать конечные причины «нежелательного хода истории» в «коренной испорченности человеческой природы», в порочности «устоев цивилизации». Стихийный характер общественного развития, присущий антагонистическому обществу, объясняется антиутопистами иррациональностью поведения людей: социальные потрясения уходящего общественного строя, не способного более вместить в свои рамки поступательное движение истории, по их мнению, свидетельствуют якобы о «хрупкости человеческой цивилизации вообще»; паранойя отдельных политических деятелей, угрожающих человечеству термоядерным побоищем, служит якобы доводом в пользу... врожденной маниакальности людей как биологического вида. Известный английский писатель Артур Кестлер прямо заявляет, что человеческий род — это не «гомо сапиенс», а «гомо маньякус», сам не знающий, как распорядиться интеллектом, которым его одарила природа.
В книге «Призрак в машине», претендующей на философское осмысление новейших достижений биологии, он следующим образом пытается обосновать свое антиутопическое кредо:
«Способность к творчеству и патология человеческого ума — в конечном счете две стороны одной и той же медали, отчеканенной на монетном дворе эволюции. Первой мы обязаны великолепием наших соборов, другая же ответственна за украшающие их химеры, напоминающие нам, что мир полон чудовищ, чертей и ведьм. В них воплощена проходящая через всю историю нашего вида жила безумия, свидетельствующая о том, что восхождение его на вершину эволюции кое-где явно шло по неверному пути. Эволюцию сравнивают с лабиринтом тупиков, так что не приходится удивляться предположению, что хотя человек и превосходит по своему природному снаряжению любой другой вид животных, тем не менее в нем заложена какая-то встроенная ошибка или недостаток, обрекающий его на самоуничтожение». До сих пор, продолжает Кестлер, мы жили с мыслью о бренности личного существования: теперь же нам предстоит свыкнуться с мыслью о бренности человеческого рода.
В рецензии на книгу Мэмфорда политический обозреватель АПН Г. Герасимов остроумно замечает, что осуждение науки «можно начинать не с Галилея, а с Прометея, давшего людям огонь, а, следовательно, все связанные с ним опасности». Мэмфорд, правда, предусмотрительно «не обращается к столь далеким примерам, поскольку это свело бы его аргумент к абсурду». Кестлер, однако, отваживается и на то, перед чем останавливается Мэмфорд. Термоядерная бомба, занесенная над человечеством, уверяет он, заставляет нас пересмотреть прежние оценки: «Миф о Прометее приобрел угрожающий характер — титан, протягивающий руку, чтобы выкрасть молнию у богов, был безумцем». Отвергая социальные преобразования как средство «исправления человеческой природы», а также скептически относясь к перспективам морального совершенствования людей, Кестлер заключает свою книгу пессимистическим прогнозом: «Как и читатель, я предпочел бы возложить свои надежды на моральное убеждение с помощью слов и личного примера. Но мы в интеллектуальном отношении больная раса и, следовательно, глухи к убеждениям. Нас пытались пронять со времен ветхозаветных пророков и до Альберта Швейцера, но результат, выражаясь словами Свифта, был один: мы были религиозны как раз настолько, чтобы возненавидеть друг друга, но недостаточно, чтобы возлюбить ближнего».
Итак, вырождение утопического жанра в антиутопический исторически и логически сопровождается переходом от социального оптимизма к пессимизму, от гуманизма — к мизантропии. Если для Паскаля, отстаивавшего в XVII веке гуманистические традиции Возрождения от клерикального фанатизма, человек был «ни зверь, ни ангел», то для современных антиутопистов он в лучшем случае «и зверь, и ангел», а для многих даже «скорее зверь, чем ангел».
Пределом наивности, однако, было бы полагать, будто кошмарный мир, изображенный антиутопистами, сколько-нибудь совпадает с их социальными идеалами. Антиутопия — это, в сущности, предостережение против весьма вероятного, но крайне нежелательного, с их точки зрения, развития событий. Антиутописты, как правило, не испытывают какого-либо мазохистского наслаждения от «предвкушения» грядущих кошмаров. Так, Джордж Оруэлл, автор, пожалуй, наиболее мрачной антиутопии XX века, отвечая на письмо Фрэнсиса Хенсона из Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности в США, пояснял: «Я не верю, что общество, подобное описанному мной, неизбежно будет установлено, но я считаю (делая, конечно, скидку на то, что моя книга является сатирой), что нечто похожее на него может наступить».
ОТРЕЧЕНИЕ ОТ ГУМАНИЗМА.
Не в том состоит порок антиутопического миросозерцания, что оно рассматривает будущее не сквозь розовые очки. В конце концов, трагическое восприятие событий само по себе не противоречит гуманистическому мировоззрению, как это подтверждают Софокл и Шекспир, Шиллер и Гюго. Трагедия, как и комедия, может служить осуждению отживших и сковывающих человека социальных отношений. И писатель, намеревающийся предостеречь читателя от каких-либо явлений или событий в жизни общества, разумеется, дает себе отчет в том, что для этой цели меньше всего подходит святочный рассказ с умиляющим концом. Он, следовательно, вправе и сгущать краски, и прибегать к мрачному финалу, чтобы произвести необходимое впечатление.
Характер и содержание антиутопии определяются, следовательно, не формальными признаками и внешними атрибутами жанра, а тем, против чего и во имя каких социальных ценностей предостерегают их авторы читателя. История литературы и общественной мысли XX века дала нам не только антиутопию, но и близкий к ней по форме прогрессивный и демократический «роман-предостережение», представленный творчеством таких выдающихся писателей, как Джек Лондон, Анатоль Франс, Карел Чапек, Рэй Брэдбери, Пьер Буль, Карин Бойе, Флетчер Нибел, Юджин Бардик, Курт Воннегут и др. Их произведения, независимо от трагичности либо сатиричности сюжета, побуждают читателя бороться против социального зла и несправедливости. Описывая в «451° по Фаренгейту» грядущее общество мещанского благополучия, где крамольные книги сжигаются на кострах, подобно еретикам в средние века, Брэдбери стремится помешать их сожжению в реальном мире. Изображая гибель цивилизации и человечества в термоядерной войне, Невил Шют в романе «На берегу» призывает осознать и предотвратить эту опасность. «Планета обезьян» Буля — это осуждение потребительского «массового общества», обезьяньего царства, во имя подлинно человечного общества.
Антиутопия же, как правило, осуждает будущее во имя прошлого, выступает против научно-технического и социального прогресса ради увековечения отживших общественных отношений и ценностей.
«Будущее может быть только хуже настоящего» — вот кредо антиутопии неизбежно влечет за собой социальный пессимизм, мизантропию и отречение от гуманистических идеалов.
В обстоятельном исследовании Чэда Уолша, посвященном современной антиутопии, содержится весьма красноречивое сопоставление взглядов как утопистов, так и антиутопистов на человека и общество.
Человек в основе добр, утверждают утописты; нет, возражают им антиутописты, в нем заложено и зло. Человек весьма пластичен, говорят первые; нет, возражают вторые, изменение его природы достигается слишком дорогой ценой.
Не существует коренной противоположности между интересами общества и счастьем личности, настаивают одни; нет, возражают другие, это, быть может, и верно на небе, но на не земле.
Человек — существо рациональное, заявляют утописты; нет, опять-таки возражают антиутописты, он рационален лишь отчасти, к тому же и дьявол тоже рационален в своем зле.
Будущее можно предвидеть и выбрать лучшую из возможностей, уверяют утописты; нет, возражают их оппоненты, о будущем в лучшем случае можно лишь гадать, и тому же в силу закона противодействия добрые намерения ведут к пагубным последствиям.
Благосостояние человека на земле достижимо, настаивают утописты; нет, возражают их противники, в погоне за лучшим будущим можно прийти к худшему, так что следует предпочесть меньшее зло.
Счастье не может надоесть людям, восклицают утописты; нет, возражают антиутописты, счастье недостижимо, человек устроен так, что его духовный подъем прямо пропорционален отчаянию.
Правление может быть справедливым, полагают первые; нет, возражают вторые, власть неотделима от коррупции.
Утопия не подавляет свободы личности, подчеркивают одни; нет, возражают им другие, для свободы личности в совершенном обществе нет места.
Итак, повальное бегство от утопии к антиутопии представляет собой не кризис литературного жанра, но банкротство традиционного либерально-реформистского мировоззрения, отражающее глубокий социальный кризис антагонистического общественного строя, исчерпавшего возможности для своего поступательного развития.
В отличие от Кроноса древнегреческих легенд, пожиравшего собственных детей, современная антиутопия явно намерена пожрать не только своих злополучных родителей — либеральный гуманизм и реформистскую утопию, но и остальных близких родственников, включая демократию и просвещение, справедливость и свободу личности (пусть хотя бы даже в их исторически ограниченном и формальном воплощении), отказывая человечеству в осуществимости его вековых социальных идеалов.
Это обстоятельство не может не вызвать глубокой и обоснованной тревоги среди наиболее трезвых и дальновидных представителей творческой интеллигенции на Западе, озабоченной перспективами дальнейшего развития общества.
За последние годы целый ряд социологов — К. Кенистон, О. Тоффлер, Д. Белл в США, Ф. Полак, Р. Юнгк и Б. де Жувенель в Западной Европе — начинают сознавать, что новая историческая эпоха требует новых социальных идеалов и ценностей. Порывая с традиционным либерализмом, обнаружившим свою идеологическую и политическую несостоятельность в решении острых социальных проблем, они пытаются сформулировать новую систему взглядов, более верно отражающую назревшие потребности общественного развития, и в частности стараются с этой целью воскресить утопию.


 облако тэгов
облако тэгов